Часть 1 Сейчас все гадают, почему большевики с дореволюционным стажем признавались в шпионаже и вредительстве. На следствии признавались в надежде, что на суде выяснится правда, на суде думали, что вот отправят в лагерь, а оттуда можно будет писать, жаловаться, требовать справедливого пересмотра дела. Так и увязали в трясине.
Сейчас все гадают, почему большевики с дореволюционным стажем признавались в шпионаже и вредительстве. На следствии признавались в надежде, что на суде выяснится правда, на суде думали, что вот отправят в лагерь, а оттуда можно будет писать, жаловаться, требовать справедливого пересмотра дела. Так и увязали в трясине.
— Состряпали дело, — продолжал свой рассказ С.В.Розенфельд, — погрузили нас в машину и повезли. Ну, все, думаем, сейчас расстреляют. Куда они еще нас могут везти? Нет, привезли в новую таштюрьму. Принимает нас конвой, осматривают. «Эй, ты,- кричат мне,- снимай штиблеты, они тебе теперь все равно не понадобятся.» Отобрали у меня новые туфли, так что в тюрьму я вошел босиком и в полной уверенности, что это мое последнее пристанище.
В тюрьме было набито как сельдей в бочке. В проходе сидели, прижавшись спиной друг к другу. Корейцев среди нас было очень много. Из знакомых почти никого не встретил. Помню только Дмитрия Лебедева, его, по-моему, откуда-то к нам прислали, то ли из Москвы, то ли еще откуда, работать заместителем редактора в газете «Правда Востока». Делать было нечего, скучно. Бумагу и ручку давали только тем, кто хотел написать признания. Дмитрий Лебедев тоже попросил бумагу и ручку якобы для написания признаний в какой-то вине. Ему дали принадлежности для письма, но так как признаваться было не в чем, то он просто что-то писал на бумаге по-английски. Это заметили вскоре и стали его за это бить. Затем наши пути разошлись, но его, по-моему, не расстреляли, на «вышку» он не потянул и ему дали срок.
Вскоре суд. Больше всего мы смеялись над корейцем Цоем. Он ушел на суд и вернулся через три минуты. Весь суд заключался в том, что он только подписал какую-то бумагу, так как плохо владел русским языком. Суд проходил прямо там же, в тюрьме. Меня судила выездная коллегия Верховного суда СССР. Заводят в комнату, меня двое держат за руки, а сзади стоит еще один. Я думаю: «Ну, все, сейчас топором ударит». И оглядываюсь посмотреть, действительно ли у него в руках топор. Кричат: «Не оборачивайся!» Суд длился ровно две минуты. Фамилия правильно? Правильно. Обвиняемый, свою вину признаете? Читают обвинительное заключение. Вы знакомы с предъявленными вам обвинениями? Вам предоставляется заключительное слово. Я говорю: «Граждане судьи! Я хотел…» Прерывают: «Вы что, хотите нам здесь речь сказать? Не надо, не надо, не надо. Ради Бога! Выводите!» Ровно через две минуты опять заводят и объявляют приговор: 10 лет тюремного заключения и пять «по рогам», так окрестили в народе «поражение в гражданских правах».
От себя замечу, прерывая повествование: хорошо бы посмотреть заветную энкаведешную папочку на С.В.Розенфельда. То, что состряпали для суда, — это одно, но вот наверняка же в качестве отягчающих обстоятельств взяли на карандаш родство с Г.Я.Сокольниковым и знакомство и общение с Н.И.Бухариным. По тем временам это тянуло на десятку.
— Погнали нас этапом на Урал, — рассказывал С.В.Розенфельд, — в город Златоуст. В златоустовской тюрьме в одной камере № 8 я сидел вместе с узбекским поэтом Усманом Насыром. Я его знал еще по Ташкенту, хотя в Ташкенте мы с ним редко встречались. Почти всегда Усман Насыр находился в депрессивном состоянии и сидел, обхватив голову руками, повторяя только одно слово: «Фашисты». Ни с кем в камере он не общался.
Сейчас известно, что 20.08.1940 г. из Магадана Усман Насыр отправил на имя Сталина заявление, в котором просил пересмотреть его «дело». Это заявление было рассмотрено И.Сталиным, Л. Берией и завизировано ими. Глава Узбекистана получил распоряжение пересмотреть «дело» Насырова Усмана. К концу 1944 г. была создана комиссия, которая признала Усмана Насыра невиновным и реабилитировала его. До реабилитации поэт не дожил: он скончался 9.03.1944 г. и 15.03.1944 г. был похоронен на кладбище в селе Суслово (ныне Первомайское) жителем Кемеровской области А. М. Сиротой. Ежегодно в Кемеровской области проводятся литературные чтения, посвященные памяти поэта, есть музей Усмана Насыра, где читаются стихи поэта, переведенные на русский язык поэтами Кузбасса и изданные кемеровским издательством.
В камере № 8, — вспоминал С.В.Розенфельд, — нас было четверо. Мы были лишены фамилий. И когда к нам обращались, то вызывали по номеру койки, на которой мы спали. У Усмана Насыра была койка № 2. В нашем коридоре было всего восемь камер, и все они располагались по одну сторону. А в самом конце поперек здания находилась штрафная камера. Заключенные называли ее «сумкой». Это была страшная камера… Стоящая в ней кровать была сделана из железных угольников, и поэтому лежать на ней было практически невозможно. Пол в ней посыпался мелкой пылью. Стоило сделать шаг, второй, как эта пыль поднималась столбом. Глотать пыль было невыносимо. Поэтому попавший туда строптивый заключенный был вынужден стоять на одном месте без движения весь свой штрафной срок. Это была ужасная пытка.
Были, конечно, в тюрьме и примитивные удовольствия. Ежедневно нас выводили гулять в небольшой загон, находившийся на территории тюрьмы, где мы могли подышать свежим воздухом, размять ноги, тело. Загон сверху был накрыт железной сеткой и был совсем небольшой. Здесь мы ходили вкруговую, один за другим… Была у нас и возможность знакомиться с прессой. Но газеты мы выписывали за свой счет. Почти все заключенные имели возможность переписываться с родными, получать посылки. Усман Насыр такой возможности был лишен. Мы не знали и не понимали почему.
За восемь с половиной месяцев, что я находился с Усманом Насыром в одной камере, он не сказал и десятка слов. Был молчалив, ни с кем не разговаривал, никого к себе не подпускал. Целыми днями он играл в шахматы сам с собой. Шахматные фигуры сделал сам. Однажды он попросил у надзирателей побольше конфет. Здесь надо сказать, что с нами в этой тюрьме были чрезмерно вежливы и тактичны. Но это больше походило на издевательство, порой выводило нас из себя. Хотелось даже избить тюремщиков. Но те заключенные, которые не выдерживали этой издевательской вежливости, попадали в «сумку». Так вот, Усману выдали конфеты, но есть он их не стал, что нас очень удивило. Только потом мы поняли, зачем он их выпросил: из конфет Усман вылепил шахматные фигурки. Играл он в шахматы, не вставая со своей койки, целыми днями. В свободное от шахмат время он писал.
Писал он много, писал стихи, писал бесконечные заявления начальству тюрьмы. Он требовал пересмотреть его дело, ссылаясь на свою невиновность; требовал освобождения. Все его заявления оставались без ответа. От этого он сильно страдал. Если кто-то из охраны пытался заговорить с ним, он обрубал того одним словом: «Фашист!»
Усман очень часто требовал выдать ему бумагу, объясняя это тем, что хочет писать стихи. Ему не отказывали, давали бумагу, знали, что поэт. Но после того, как Усман исписывал ее, надзиратели заново пересчитывали количество выданных листков и забирали, обещая приобщить их к его делу.
На девятый месяц нашей отсидки нас решили перебросить на Колыму. Берия, видно, решил, что нечего нам даром баланду жрать, надо отрабатывать. Усман физически был очень слабый. После почти годового сидения в златоустовской тюрьме и вынужденного безделья мы все ослабли. Поэтому работать, выполнять непосильный физический труд было очень тяжело. Усман из-за слабого здоровья всегда находился в изоляторе. Потом его сактировали, и наши пути разошлись. Позднее я узнал, что он умер в Кемеровской области.
Сергей Владимирович попал на колымский золотой прииск «Бурхала» гулаговского Дальстроя. Дотошные кадровики с полковничьими погонами на плечах потом с точностью до одного дня высчитали его стаж работы на Крайнем Севере: 9 лет, три месяца, 19 дней. Любой из этих дней для наркомпросовца из Узбекистана мог стать последним. В архивах Минпроса УзССР были данные о том, что 5.06.1936 г. Сергей Владимирович Розенфельд был назначен заместителем начальника управления по обучению взрослых, к моменту ареста 24.01.1938 г. он уже стал начальником управления школ для взрослых Наркомпроса УзССР. В чем не откажешь сталинской репрессивной машине, так это в точности: ровно 24.01.1948 г. ему позволили выйти из шахты прииска «Бурхала», где работали зэки.
О том, что вместилось в эти 9 лет, Сергей Владимирович вспоминал в своей рукописи, написанной в 1959 г.
«Мороз! Он бывает разный. Он может бродить и сковывать, давать силу и отнимать последние остатки ее, заставлять человека двигаться энергичнее или валить с ног.
Здоровый, хорошо по сезону одетый человек испытывает истинное удовольствие, отправляясь на прогулку — в лес ли, в поле, на охоту, на работу в морозный погожий день.
Я на работу не отправлялся, — отправляли меня. И, признаться, от этого не мог испытывать не только особого, но даже и малейшего удовольствия. Отказаться, сослаться на слабость, на болезнь? Можно и так. А результат? Ругань, «беседа» с дежурным надзирателем или начальником лагпункта, мимолетный заход к «лепиле» (так в обиходе назывался лекпом пункта), брошенное им — «симулянт!» И как вывод — акт. А в нем писалось: «з/к такой-то одет, обут по сезону, накормлен по штабному списку, признан здоровым — от работы отказался», и резюме: «водворить в изолятор с выводом (или без него) на работу на одни (3-5) сутки».
Перспектива малоприятная, если учесть, что «одет по сезону» — это значит: на мне рваная телогрейка, такие же брюки, состоящие из заплат (а ваты и в помине нет), бурки-скороходы, где голенище — рукав телогрейки или штанина, а подошва из автомобильной шины. Если учесть, что накормлен по штабному списку, значит то, что в 7 часов утра я проглотил 400-граммовую пайку, предназначенную предусмотрительным начальством на целые сутки, и дважды, по-морскому, через борт, выхлебал две миски баланды, в которой «крупинка крупинку догоняет и догнать не может». Если учесть, что обладал я тогда примерно 50-килограммовым весом, элементарной дистрофией и добавить к этому, что идти надо в ночную смену, что работать в открытом разрезе, что до работы семь километров, что ртутный столбик стоит на минус 49 — тогда станет понятно мое предрабочее настроение и состояние.
Наш участок носит почти романтическое название — «Тайно-Утесный». Также называется и наш лагерный пункт. В нем 350-400 человек. Состав за зиму (сейчас 22 марта 1943 года) сменился уже раза три. Одни пришли, чтобы больше никуда и никогда отсюда не уходить, другие ушли, чтобы больше никуда и никогда не возвращаться.
Геологи — они романтики, и называют ключи, распадки, ручьи именами чаще всего романтическими: «Петер», «Луиза», «Светлый», «Нечаянный»… А наш «Тайный», да еще «Утесный». Роковое название. Видно, геолог был сумрачен, когда наносил на полевую карту течение нашего ключа. И остановившись на «Тайном», очевидно, не предполагал даже, какое зловещее пророчество вложил в него…
Итак, мы идем на работу. Я и мой напарник Сергей Гайдуков. Его судьба значительно лучше моей. Он моложе, здоровее и главное — он бытовик.
(Здесь я прерву повествование Сергея Владимировича, чтобы сообщить, что в лагере он представлялся так: «десять и пять, пятьдесят восемь — восемь». Это означало, что он получил срок — «десятку» с последующим поражением в правах на пять лет по печально знаменитой пятьдесят восьмой статье Уголовного кодекса, ее восьмому пункту (террористический акт). О собственном имени в лагере необходимо было молчать.)
Хороший парень, хороший бурильщик на пойнтах. Я его помощник… Но ноги не держат, а мороз жмет на все педали. И просьбы Сергея заменить меня ни к чему не привели.
До 33-й линии, где нам предстояло работать,- семь километров. Тезка мой ушел далеко вперед. Сегодня мне за ним не угнаться. Сдал совсем…
Разрез лежал подо мной. Слева от самой подошвы разреза, пологой прямой, как струна, линией уходила мехдорожка. В лунных бликах зацепленные на ней короба казались мрачной шеренгой гробов. А на самом верху, на отвальной площадке, вился из тепляка еле заметный серебряный дымок.
Очень кружилась голова.
— Неможется, что ли?
— Да черт его знает, Сергей, что-то не могу наклониться.
— Заболел?
— Не знаю, наверное… А может, пора пришла…
— Ты только не паникуй. Вали в тепляк. Отойдешь — придешь.
Сон пришел сразу. Сказались усталость, чрезмерная слабость, очевидно, оказало свое действие и тепло.
…Печка остыла. Тепляк перестал быть тепляком, и мороз попытался поднять меня на ноги. Я знал, что подняться нужно! Нужно двигаться, что-то делать. Но попытки мои ни к чему не приводили — голова кружилась, ноги подкашивались, а тело перестало быть управляемым. Заснул ли я, потерял ли сознание, не знаю. Меня трясли. Поднял голову. Надо мной склонился Сергей.
— Пошли в лагерь. Иду за взрывником.
— Да нет, Серега. Наверное, ничего не получится.
Сергей ушел. Я остался один с печкой, звездами и своими мыслями…
Открылась дверь тепляка, ворвался холод, предрассветная мгла, в которой одна за другой пропадали звезды. Зашел, вернее, ворвался наш бригадир Садыков. И сразу же ко мне… Он не наш бригадир. Не нашего контингента. Не нашего «призыва». Лагерник с большим стажем — садист и вымогатель, выбивавший из нас все, что требовало от него не менее садистское начальство. У нас с ним старые счеты с прошлого 1942 года.
…Получив как-то для бригады три буханки хлеба, он положил их в свой чемодан (иметь чемодан было высшим шиком), вышел и, вернувшись вскоре со своим приятелем, отдал ему одну буханку. Печальными глазами провожало 30 человек свою долю, исчезнувшую за пределы барака. Уходили дополнительные 100 граммов хлеба, так необходимые для нас в тех жутких условиях.
Когда Садыков снова вышел, я спустился с нар, подошел к его топчану, выдвинул из-под него чемодан, взял хлеб, разломил его на части и передал по нарам.
— Брось, Сергей, — попытался образумить меня Николай Ксендюк, бывший парторг Красноярского затона. — Тебе за это, сам понимаешь, не поздоровится.
Да, действительно, воровство пайки — это самое страшное преступление в лагере, это предел подлости, никем и никогда не прощаемый.
— Но хлеб-то наш. Украл он. Мы только экспроприируем у экспроприатора.
Держался эдаким бодрячком. Хотя на душе кошки скребли. Знал, будет крепкая буча. Не успели еще перестать ходить челюсти, как вернулся Садыков, да не один, с «Трубой» — Петром Алексеевичем — бригадиром, таким же вымогателем и бандитом. Выдвинут чемодан и…
— Пайку крадете! Да я вас… Нутро выверну! Из желудка достану!..
Надо было решаться. Хотя меня и трясло, насколько мог, спокойно принялся объяснять, что воровства пайки здесь нет, что инкриминировать (так и сказал) нам, вернее, мне такого преступления нельзя, что взял я хлеб, принадлежащий нам, и что если уж кого надо обвинить в воровстве, то, очевидно, Садыкова. Тот сначала опешил, не ожидал такой прыти от доходяги, затем подошел ко мне, поднял здоровенный кулак… но ударить не посмел.
— До конца дней своих будешь меня помнить. Я тебе обещаю!
…Сильный пинок ноги заставил меня вскрикнуть.
— Филонить?! Дрыхнуть сюда пришел! Пайку государственную получаешь, а отрабатывать не хочешь. Фашист идейный. — И мат. Особый, лагерный, ни с чем не сравнимый.
— В забой! 50 коробов откатишь…
С тем же успехом можно было сказать и пять, и сто, и двести. Я-то знал, что ни одного короба не навалю, ни одного не откачу. Больше того, я знал, что даже в забой вряд ли могу спуститься. Подошел начальник конвоя и оттолкнул меня прикладом от спасительной стенки тепляка. Надо попытаться двигаться к забою, к своим. Держась за трос, кое-как перебирая ногами, добрался до прицепщика Краснова — бывшего главного инженера Южного управления. Подошли товарищи:
— Что случилось? Почему не пошел в барак?
Затем разглядев меня:
— Ну-ка, дуй в тепляк!
— Нельзя хлопцы. Получил садыковскую норму — полста.
Появился мастер. Взглянув на меня, все понял:
— Сам-то сможешь дойти?
Участие товарищей, изъявление протеста против действий бригадира и начконвоя, видно, придало мне какие-то силы, и я, насколько мог, бодро двинулся в семикилометровый путь.
Хватило только на полкилометра, и все, исчерпан лимит. Снова закружилась голова. Пришлось остановиться. Затем шаг, и головокружение. Остановки. Шаг. Нет, шаг не выходит. Заносит в сторону. Возвращаться — тоже не дойду. Значит, только вперед и вперед.
Вытаскиваю из снега две топографические вешки — по счастливому случаю оказался возле них. Это уже опора. Еще две конечности. Опираясь на вешки, с трудом делаю шагов 10-15. Но вот одна вешка выскользнула из окоченевшей руки. Хочу поднять ее и… падаю. Совершенно отчетливо осознаю: начинается борьба за жизнь. За свою жизнь. За себя. Начинаю подсчитывать силы сторон. Против меня — шесть с половиной километров пути при 50-градусном морозе, коченеющие ноги и руки, 48-50 килограммов веса, головокружение. За меня — цель добраться до тепла, взошедшее солнце — зовущее к жизни. И еще одно было «за». Возможно, кто-нибудь встретится, поможет. Вероятность эта была бесконечно мала и в части встречи, и в части помощи. Слишком обыден был замерзающий на дороге человек, не кощунствуя, можно сказать, что не сочувствие, а зависть у многих он вызывал.
Продолжение следует
Ефрем РЯБОВ.
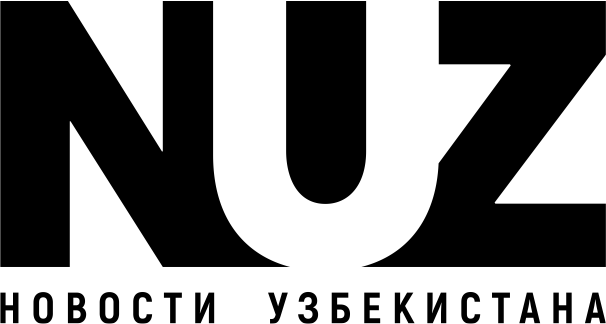

К сожалению, рассказы мучеников 30-х так похожи! Мы обязаны помнить и передавать эту память следующим поколениям, чтобы не потерять иммунитет.